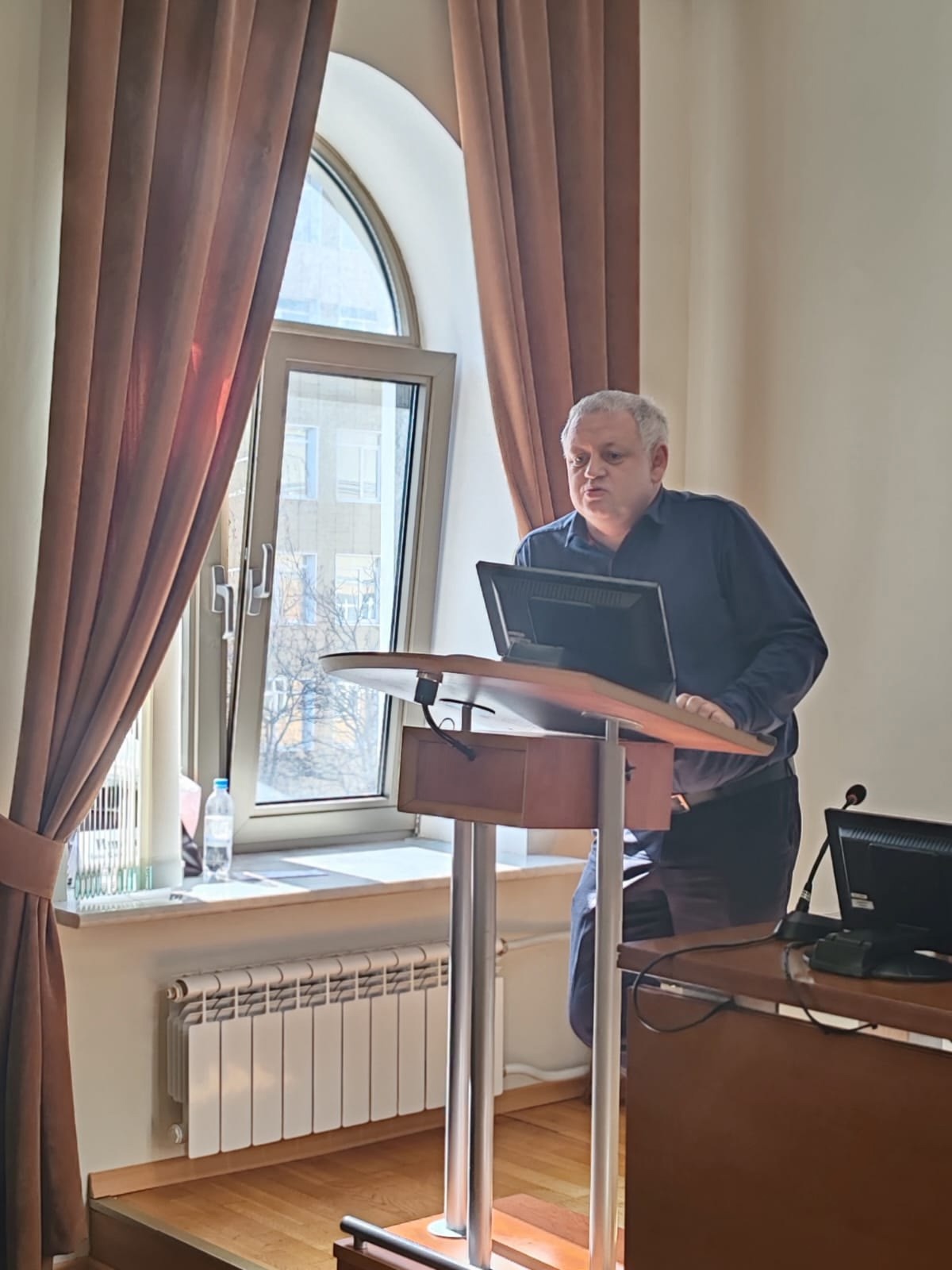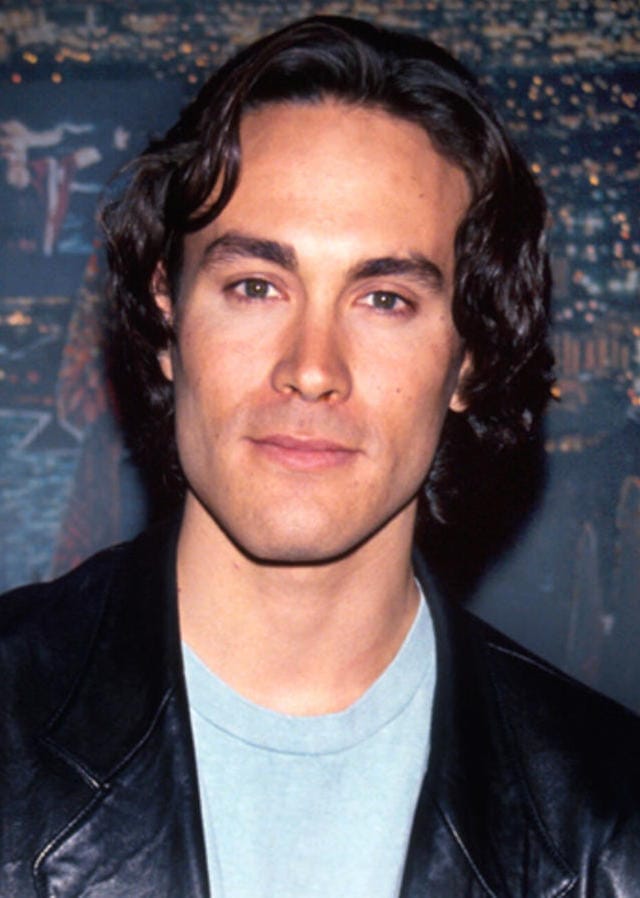Союз криминалистов и криминологов поздравляет с днем рождения председателя Отделения Союза криминалистов и криминологов в Сибирском Федеральном Округе Шишко Ирину Викторовну!
 Уважаемая Ирина Викторовна, желаем Вам крепкого здоровья, успехов и благополучия в делах, неиссякаемого научного вдохновения! С праздником!
Уважаемая Ирина Викторовна, желаем Вам крепкого здоровья, успехов и благополучия в делах, неиссякаемого научного вдохновения! С праздником!
Шишко Ирина Викторовна — доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права, заведующий кафедры предпринимательского, конкурентного и финансового права Сибирского федерального университета.
В 1975 г. с отличием окончила Красноярский государственный университет по специальности «Правоведение».
В 2004 защитила докторскую диссертацию на тему «Взаимосвязь уголовно-правовых и регулятивных норм в сфере экономической деятельности».
Является автором свыше 100 научно-методических публикаций, в том числе 80-ти научных публикаций, из которых 2 монографии:
Преступления в сфере экономической деятельности и против интересов службы в коммерческих и иных организациях. – Красноярск, 1998 (в соавторстве с А. С. Гореликом, Г. Н. Хлупиной)
Экономические правонарушения: Вопросы юридической оценки и ответственности. – СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2004.
Научно-педагогическая и общественная деятельность:
Член Федерального учебно-методического объединения в системе ВО по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 40.00.00 Юриспруденция
Член Президиума Ассоциации Юридического образования (г. Москва) — ассоциации ведущих юридических вузов России.
Председатель Сибирского регионального отделения Союза криминалистов и криминологов.
Член Совета Красноярского краевого регионального отделения Ассоциации юристов России.
Член редакционного совета журнала «Юридическое образование и наука».
Заместитель председателя Научно-консультативного совета при Красноярском краевом суде.
Имеет Благодарственное письмо Губернатора Красноярского края, награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, Почетной грамотой Председателя Законодательного собрания Красноярского края
Лауреат премии «Юрист года» в номинации «Юридическое образование и юридическая наука» (Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов РФ, 2011).
Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации.
Post Views: 116
 Уважаемая Лилия Ринатовна, желаем Вам большого научного вдохновения, успехов и благополучия в делах, крепкого здоровья и прекрасного расположения духа! С праздником!
Уважаемая Лилия Ринатовна, желаем Вам большого научного вдохновения, успехов и благополучия в делах, крепкого здоровья и прекрасного расположения духа! С праздником!