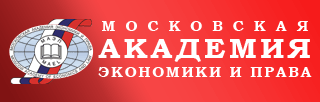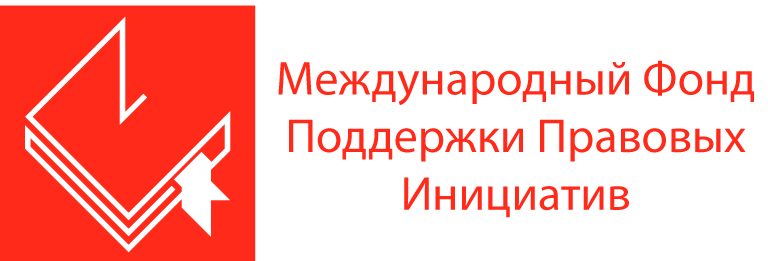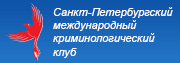Римский психоаналитик Яня Йерков
Человечество ведет войны, сколько себя помнит, и одновременно – по крайней мере, в последние столетия – пытается осознать, какие механизмы становятся первопричиной вооруженных конфликтов. На этот вопрос на примере потрясших Европу четверть века назад военных столкновений в бывшей Югославии искали участники международной научной конференции “Югославские войны: другое лицо европейской цивилизации?”. Конференция собрала европейских исследователей и практиков, работавших на западе Балкан в 1990-е и нулевые.
Профессор Римского университета Сапиенца, заведующая кафедрой югославянских языков Яня Йерков руководила сессией докладов о формах насилия в военное время. Йерков не только филолог и исследователь, но и практикующий психоаналитик, ее родители – хорватские беженцы из Югославии времен Второй мировой войны. В интервью Радио Свобода она делится фрагментами своей семейной истории и анализирует военные конфликты как вечный синдром человечества.
Война как способ общения
– Подводя итог дискуссии, вы сказали, что “другим лицом” европейской цивилизации, видимо, все-таки является насилие. Возникает вопрос: может ли культура что-то сделать для того, чтобы остановить войну, или же насилие и неизбежность войны всякий раз следуют за периодами мира? Обязательно ли это?
– Я уверена, что насилие – это другое лицо европейской цивилизации. Но одно дело, когда мы рассуждаем индивидуально, о людях, а другое – когда насилие выражается коллективно, когда им пользуется государство, когда насилие происходит между государствами. Одно дело – это группа людей. Однако насилие работает одним и тем же образом и у групп, и у отдельного человека. Поэтому государственное насилие отражает насилие, свойственное отдельному человеку. Это насилие каждого человека в отношении другого. Насилие рождается, потому что мы в отношении другого человека всегда хотим чего-нибудь от него, другого, мы хотим каким-то образом опираться на что-нибудь в нем. Это так, когда мы говорим о любви: мы любим другого человека, потому что с другим человеком у нас возникает некоторая полноценность, он нас наполняет. Мы хотим, чтобы другой человек нас поставил в центр своих желаний.
– Вы считаете, что насилие возникает в отношении близкого, в отношении похожего, в отношении соседа?
– Да. Каждый человек порождает социальное отношение к другому, насилие возникает внутри этих социальных отношений. Вот есть родители, брат, сестра, другие близкие – значит, это группа людей, которую мы образуем и внутри которой порождаем насилие. Мы еще и хотим, чтобы сосед признавал правоту того, что мы как группа от него хотим. Поэтому все эти народы, которые воевали в Югославии, хотят, чтобы их представляли и понимали как жертв.
Профессор Йерков с коллегами на конференции «Югославские войны: другое лицо европейской цивилизации?»
Профессор Йерков с коллегами на конференции «Югославские войны: другое лицо европейской цивилизации?»
– Это доказывает их правоту для самих себя, я правильно понимаю?
– Это всего лишь то, как люди относятся друг к другу. Каждый человек хочет, чтобы и другие члены его группы его узнали. Как в любви мы хотим, чтобы наш партнер ответил нам, и на работе хотим, чтобы все признали нас. Когда этого нет, или, по крайней мере, когда это не так осуществляется, как хотели бы мы, тогда и возникает насилие. Потому что внутри человека живут как любовь, так и насилие, человек как-то создается и любовью, и насилием. Надо от этого начинать, невозможно регулировать отношения народов или людей, если мы не признаем это. Возникает и другая проблема на этом поле: отношения человека с тем, чего нет: это значит, он не может получить все, что хочет, и поэтому возникает некая фигура отсутствия. Очень трудны такие отношения с отсутствием чего-то. Возьмем, например, случай Палестины: если рассматривать его для арабов, они хотят Палестину, а для Израиля Палестина – это потерянная земля. Косово – похожий пример, потому что правда, что там жили сербы – но правда также, что Косово потеряно для Сербии навсегда задолго до начала югославских войн. Проблема в том, что и отдельный человек, и вообще коллектив людей, должны работать над проблемой отсутствия чего-то. Все-таки надо наконец признать, что существует нехватка чего-то, и нельзя ничего сделать с этим. Признать эту нехватку можно, только работая с инструментами культуры. Культуре надо работать над символами. Например, земля Косова должна стать символом, мифом для сербов.
– А вдруг сербы не согласятся с тем, что это миф и что нужно вернуть эту землю как можно скорее? Я разговаривала в бывших странах Югославии с людьми и задавала вопрос: вы помните, почему эта война началась, почему она продолжалась так долго и оказалась такой жестокой? Понятно, что сначала были политические причины, но почему война шла так долго и кроваво? Они говорят: нет, мы не понимаем. Мы сейчас пьем кофе друг с другом, но мы не можем сами себе объяснить, что это было.
Насилие – это форма человеческого наслаждения
– Самый сложный момент состоит в переходе от политического националистического дискурса к войне. Не всегда насилие ведет к войне. События ведут к войне, только когда дело касается интересов доминирующего слоя в стране. Поэтому можно представить, что сегодняшние сербы не понимают, почему эта война была такой долгой и кровавой. Мы говорили на конференции об одной детали в момент возникновения войны: в Сербии ученые писали какой-то документ, меморандум в поддержку националистических теорий и высказываний Слободана Милошевича. Таким образом, когда они говорят о насилии – это уже социальный разговор.
– Тем не менее повторю вопрос, который обсуждали между собой между двумя войнами Альберт Эйнштейн и Зигмунд Фрейд, по-русски эта переписка называется “Почему война?”. Почему насилие переходит в военные действия?
– Потому что насилие – это форма человеческого наслаждения. Когда это асоциальный дискурс разговора, тогда толпа просто заражена им, но не больна. Когда я говорю о наслаждении, я имею в виду нечто очень важное в жизни всех нас: как мы относимся к другому, к ближнему. Мы всегда хотим, чтобы другой нам дал что-то такое, что бы нас удовлетворяло. Поэтому наслаждение есть во всех наших отношениях, наших действиях. Это такая модальность, по которой мы входим в отношение с другим.
– Даже если нам кажется, что эти отношения причиняют страдания нам, а не другой стороне?
– Есть разница между наслаждением и удовольствием, хотя это похожие понятия, но для одного есть граница какая-то, другой переходит эту границу. Я пью стакан вина – это наслаждение, я наслаждаюсь, две бутылки вина – это уже удовольствие. То есть это наслаждение, которое имеет свои последствия, потому что у меня печень болит потом. Между народами повторяются те же самые отношения, которые существуют между отдельными людьми. Я всегда хочу чего-нибудь от другого. Если я принимаю, что он отвечает мне только частично – тогда это наслаждение. Если я не воспринимаю то, чем он только частично мне отвечает, потому что я хочу все, тогда это уже не наслаждение, а удовольствие. Когда сербы и косовские албанцы воевали из-за того, что каждая сторона хотела стать единственным хозяином Косова, получилось такое удовольствие, но разрушительное удовольствие.
– В семье мы же не убиваем друг друга, хотя проблема семейного насилия – одна из серьезнейших проблем в любом обществе, какое бы оно ни было, очень продвинутое или же весьма консервативное. Какого рода символическое удовольствие могут получать воюющие? И в чем оно состоит: в захвате чужой земли, в унижении врага, в чем еще?
– Это не символическое удовольствие, это способ сделать так, чтобы другой работал только для меня, я его эксплуатирую.
– В этом смысле тогда в конфликте сербов и косовских албанцев кто был субъектом и кто объектом?
– Каждый из общин исполняла обе роли. У них одна и та же логика: каждый хотел. Поэтому была война.
– Если вы немного следите за событиями на востоке Украины: когда пророссийские сепаратисты хотят даже не столько в Россию, сколько самостоятельности, а Россия поддерживает военный конфликт, кто в данном случае может быть субъектом, объектом? Как можно с научной точки зрения об этом говорить?
– Это отвечает логике удовольствия, потому что они хотят быть сами по себе. Ответ должен быть не культурный, то есть не чисто символический. Надо найти другие способы совместной жизни, это единственное.
– На конференции прозвучала несколько раз мысль, которая меня задевает: когда говорилось о том, что в представлениях Запада, Европы, “большой” Европы, на Балканах живут варвары. У них там, у варваров, может быть такая ужасная война, такие ужасные вещи могут происходить только с этими варварами, потому что они варвары. Сейчас возможно так же и про украинцев, и про русских сказать: это не мы, это не Европа, это вообще далеко. Что вы думаете об этом культурном концепте, который вообще-то довольно старый, как с этим можно работать?
– Наша конференция старается ответить на этот вопрос по-другому: что Запад ответит? Запад хочет себя защищать. Это не только наша проблема, то есть это не только проблема Запада, поскольку каждая группа себя обозначает в отношении к другим, потому что у человека очень сильно развит социальный характер. Мы должны именно над этим поработать, над сознательностью. Потому что то, что мы есть – это идет через другого. Даже имя, которое мы носим, – оно появилось от наших родителей. Язык, на котором мы говорим, выражаем наши чувства, идет от другого.
Когда мы говорим о народе, симптомы – это раны истории. На фоне этих симптомов рождается характер человека или народа
Поэтому отношения с другим включают в себя два момента, логических момента. Первый момент – это почувствовать себя другим. А второй логический момент – это отойти от другого. То, что позволяет отделиться от другого – это его специфический характер. Симптом – это то, как каждый из нас реагирует против проблем жизни. Когда мы говорим о народе, симптомы – это раны истории. На фоне этих симптомов рождается характер человека или народа. Но это всегда ответ другому. Мне кажется, что логический ответ на ваш вопрос – это работа на отношения между нами и другими.
– Но что для этого нужно сделать?
– Например, показывать, что проблемы Балкан, или Европы, или других стран – это просто универсальные человеческие проблемы. У них, конечно, свои локальные характеристики, но эти характеристики второстепенны по отношению к тому, что они универсальные.
Косовские албанцы-беженцы, 1998
Косовские албанцы-беженцы, 1998
Дочь беженцев
– Мы можем поговорить о ваших родителях?
– Отец умер, мать жива. Они оба хорваты, но отец жил очень долго и учился в Сербии. Он всегда был очень последовательным сторонником югославизма, поэтому можно сказать, что я ребенок смешанной пары.
– Где он учился?
– В Вальеве, это сердце Сербии. Он был филологом, и он был католиком. Когда была война, он хотел уйти с партизанами, но священники ему запретили, потому что партизаны были коммунистами. Моя мать из Далмации, ее хорватская семья была националистически настроена. Они уехали из Югославии по разным причинам, решили переехать в Италию в 1945 году.
– Что известно о причинах, по которым они вынуждены были покинуть страну?
– Партизаны убили брата матери. Там была такая националистская среда, поэтому она хотела сбежать от партизан. Отец тоже уехал, потому что усташи его хотели убить в конце войны.
– Несмотря на то что он были хорват, у усташей были к нему претензии?
– Потому что его семья считалась коллаборационистами с партизанами. Он к ним уйти не смог, но все-таки он с ними был связан.
Броз Тито в Москве, апрель 1945
Броз Тито в Москве, апрель 1945
– Я хочу понять. Приходит Тито, партизаны победили, отец был антифашистом, самое время сделать карьеру?
– Он был католиком, и у него были сильные связи с Сербией, поэтому он содействовал партизанам, но скрыто, подпольно. Он узнал, что следили за ним, выяснили, что он подпольно с партизанами работал, и что его хотели убить. Он всегда хотел вернуться потом в Югославию, но, к сожалению, не смог.
– Как мама оказалась в Италии? Из какого города она родом?
– Она из Загреба, она там училась на медицинском факультете, уехала вместе с другими девушками, потому что говорили, что сейчас придут партизаны, будут их насиловать и так далее. Священник их собрал. Она вообще хотела в Аргентину ехать через Италию.
– Они встретились с отцом в Риме?
– Да, в Риме. Оба каким-то образом порвали отношения с церковью и решили пожениться.
– Почему вы стали психоаналитиком, заинтересовались этой сферой? Были ли какие-то противоречия внутри семьи, которые подтолкнули вас к этому?
– Анализ – очень личный путь. Наверное, для меня было драматично жить в семье, которая оторвана от культурного поля. Они были беженцами, поэтому эту их атмосферу я ассимилировала, я тоже себя чувствовала, как они. Выбор анализа имеет и другие глубокие корни, потому что в профессиональной жизни я исследователь. Нельзя быть исследователем только в одном поле, все поля связаны друг с другом. Когда я в течение моего личного долгого анализа рассказывала о своем положении дочери беженцев, то поняла, что в жизни, в конце концов, мы все беженцы, потому что у нас есть миф потерянного рая, у всех. Просто в моем случае этот миф был смешан с семейным романом.
– Еще немного о родителях. Где они жили первые годы в Италии? Наверное, у них не было своего жилья? Это был какой-то лагерь для беженцев?
– Да, мой отец был в лагере для беженцев. Его и мою мать экономически содержала католическая организация для беженцев “Каритас”.
– И так было, пока они не начали работать? Мама работала по специальности?
– Мать работала в больнице, первые 10 лет как волонтер, потому что у нее не было итальянского гражданства, она не могла официально работать.
– Ваш отец работал журналистом. Был ли он вовлечен в какие-то политические страсти 60–70-х в Италии?
– Он был уже немолодой человек, и при этом он старался решить свое положение беженца. Он в основном занимался религиозными проблемами на Балканах. Свой опыт он использовал для работы. В 60-е годы он был большой авторитет по этим вопросам в Риме.
– Он работал на газеты, журналы, для радио?
– Для нескольких левых журналов и газет. Потом он открыл свою контору, агентство печати. Даже после того, как мы стали итальянскими гражданами, отец всегда работал с газетами, с публикациями Югославии. Не как беженец, а как итальянский гражданин, сильный югославист, который хорошо знал проблемы, как эксперт.
– Вы дочь беженцев. Как вы это ощущали, когда были ребенком? По какой-то тревожности родителей, по каким чертам их поведения и разговорам вы чувствовали, что вы вне корней?
– Мы были очень одиноки, у нас родственников не было, и друзей тоже. Потом, это были трудные годы, 50–60-е годы, был железный занавес. И еще были проблемы с городом Триест.
– Который переходил из рук в руки, от итальянцев к Тито, насколько я понимаю.
Я чувствую себя как человек в глубине истории
– Мои родители очень боялись говорить по-хорватски, наверное, слишком боялись, поэтому они не содействовали, чтобы хорватский язык остался главным языком дома. Потому что они были уверены, что все-таки вернутся в Югославию. Они не вернулись в Югославию, потому что родились три дочери, и в Югославии ничего не было для нас после войны.
– Каким был семейный язык, когда девочки были маленькими?
– Хорватский, но в школе итальянский.
– А где были дедушки и бабушки?
– В Югославии.
– То есть вы не встречались с ними?
– У родителей не было гражданства, и они не могли уехать из Италии, потому что не могли бы возвратиться.
– Когда-то вам все-таки удалось увидеть дедов и бабок?
– Да, мы вернулись. Но было очень трудно в лингвистическом плане, потому что они говорили на другом языке. Поэтому я стала славистской, учила славистику в университете. Мой симптом стал моей профессией.
– Вы себя чувствуете человеком, который сам себя сделал, или же история вас сделала? Послевоенная история ваших родителей, личная история, политическая история Европы – чего больше?
– Я чувствую себя как человек в глубине истории, но человек, который произвел свой выбор. Мой выбор также имел в виду, помимо семейной истории, полный отказ от всякого национализма. Это не значит отказ от культуры народов, но отказ от националистических чувств этих народов, – рассказала Радио Свобода психоаналитик и филолог из римского университета Сапиенца, один из ключевых участников международной научной конференции “Югославские войны: другое лицо европейской цивилизации?” Яня Йерков.
Перевод интервью: Клаудиа Скандура
https://www.svoboda.org/a/28877826.html